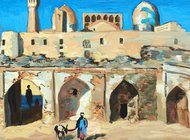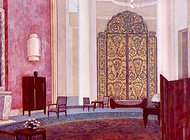Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.
В Мультимедиа Арт Музее 23 апреля открывается «Амнезия», выставка неоновых работ пионера концептуализма Джозефа Кошута. О том, что такое концептуализм сегодня, как ему понравилось современное российское искусство и какие у художника предпочтения в алкоголе, выяснила Алёна Лапина.
Что такое, на ваш взгляд, концептуализм сегодня? Вы ведь им занимаетесь 60 лет уже, с 1960-х годов. Вам не надоело работать в этом направлении?
Начну с истории, которую мне давным-давно рассказал художник Дональд Джадд. Еще будучи живописцем, в попытках решить связанные с живописью проблемы он начал делать «коробки», благодаря которым потом и прославился. А Кинастон Макшайн, который был тогда куратором Еврейского музея в Нью-Йорке, как раз собирался делать большую выставку на тот момент еще только зарождавшегося минимализма. Шесть художников, мы их всех знаем. Роберт Моррис, Дэн Флавин, Джадд, Сол Левитт… Тогда это стало чем-то вроде Триединства. А Кинастон пригласил еще... я не знаю сколько… 18, 20 художников, которые делали коробки. Джадд, конечно, был в недоумении: то, что он пришел к «коробке», являлось очень личным решением его художественных проблем. И вдруг все вокруг делают коробки. В конце концов история внесла свои коррективы: остались только те шесть художников, которые изначально и должны были выставляться.
Я думаю, что тоже работаю над своими реальными личными и творческими проблемами, позиционирую себя с точки зрения истории искусства. И все решения, к которым я прихожу, по-своему очень личные. Не в экспрессионистском смысле, конечно. Но они привели меня к оригинальности в моих взглядах, в моем изучении философии, в моем понимании истории и в моих знаниях об искусстве. Я сделал много вещей, необходимых для меня как для художника.
Когда мои работы превратились в нечто похожее на целое движение и все вдруг начали на это новое движение набрасываться, было очень странно наблюдать за происходящим. Появилось новое направление, не дающее предписаний, и именно благодаря отсутствию предписаний оно пришло на смену модернизму. Постмодернистские методы оказались более подходящими современной жизни. Искусство, для которого было характерно преобладание формы над содержанием, стало неприемлемым. Сомнение во всем — вот с чем теперь пришлось работать искусству.
Не хочу делать из модернизма какой-нибудь псевдодарвинизм, но он не мог продолжать существование в старой культурной перспективе. Если хотите, можете назвать это историческим предназначением. Я бы не стал. Но у меня в то же время есть чувство, будто все случившееся было вполне закономерным. Благодаря этому появилась возможность заниматься искусством иначе, сменить курс. Искусство стало не про то, как оно делается, а про причину, про процесс выражения. Появилась необходимость иметь представление о том, как создать новую объединяющую культуру, и о политической стороне этой проблемы тоже. Я считаю, это было правильное искусство для второй половины XX века и до наших дней.
Было бы абсурдно отрицать влияние — сходите на любую биеннале, в любую галерею, если хотите задокументировать. А рынок хочет картин. Рынок хочет славных, милых вещиц, которые можно повесить над диваном. Как галстук. Эксклюзивный галстук. Вот каким они хотят видеть искусство. А художники борются за право наполнять работы смыслом, быть значимыми для своего времени. Так что есть миллион причин, почему невозможно быть художником.
Как вы относитесь к русскому концептуализму и какие художники вам нравятся?
С того момента, как я знаю о существовании русского концептуализма, я знаю [Илью] Кабакова. Мы встречались, когда он впервые был с визитом в Нью-Йорке. Но я и работы других художников видел. Мне кажется, они на разных уровнях интересны. Однако, я думаю, важнее всего здесь параллельный контекст. Московский концептуализм зародился в конце 1960-х — начале 1970-х, правильно? Он же вышел из конфликта и противостояния и стал формой власти над культурой, исходящей от советского правительства, от рынка и от политического контекста Америки 1960-х.
Мое поколение было против любой власти. Мы ставили под сомнение все ее формы. Картины и скульптуры — во всем тогда чувствовалось присутствие тюремных надзирателей. Это необходимо было переосмыслить. Было слишком много предписаний, и Клемент Гринберг (американский арт-критик, оказавший большое влияние на развитие современного искусства, ключевой теоретик абстрактного экспрессионизма. — TANR) постоянно диктовал, что может быть искусством, а что нет, поэтому мы взбунтовались против этого.
Это были своеобразные боли роста (невралгические боли, возникающие у растущих детей. — TANR): культура искала способ быть значимой для своих современников. Культура всегда должна к этому стремиться. Подхватывая настроения в искусстве, другие вещи в культуре обретают силу и аутентичность, потому что переосмысливаются, а это необходимо. Я считаю, это определенный набор вещей. Благодаря моим знаниям в области философии, в своем анализе я могу выйти за рамки формалистических доктрин гринбергизма. И я приметил еще одну культурную традицию в искусстве.
Возьмем самостоятельный реди-мейд [Марселя] Дюшана. Не весь дадаизм, а одно следствие работы Дюшана — идею вычленения предмета из контекста. Я начал заниматься тем, что в дальнейшем стало называться апроприацией, потому что в то новое время такой подход был полезным. Он послужил началом для признания важности контекста, использования текста, необходимости связи работы с архитектурным пространством и важности психологии пространства тоже. Для постмодернистских картин характерна такая изоляция. Но основная идея в том, что это сослужило службу своему времени.
Вы в Москве уже около недели. Я вас видела на выставках современного искусства (на выставке Владимира Немухина в ММОМА и в галерее «Триумф»). Как вам вообще русское современное искусство?
Я, честно говоря, видел недостаточно. И не вижу особых отличий от работ лондонских, нью-йоркских или берлинских художников, которые появляются и борются за развитие практики. Мне кажется, российское современное искусство существует параллельно тому, что происходит в мире. А из этих мировых работ где-то две трети не то чтобы хороши.
Знаете, Джексон Поллок был худшим студентом в классе Томаса Харта Бентона, своего учителя живописи. Худшим. Все считали, что он безнадежен. Поллоку пришлось изменить искусство, чтобы быть включенным в него. Так что новые работы многих художников, которых можно назвать плохими, на деле оказываются более радикальными, более глубокомысленными, чем работы художников, придерживающихся идей о том, что такое интернациональный «хороший вкус», и вписывающих свои работы в контекст того, на что есть спрос. Новое искусство обычно не выглядит как искусство, оно чаще всего довольно уродливо. Так что никогда не понятно, каким стоит следовать принципам в работе, в чем быть заинтересованным.
Сейчас все совсем не так, как когда я был молодым художником, потому что тогда не было такого большого рынка, не было индустрии. Они оставили нас в покое. Художник отвечал за разработку смысла, нам позволяли это делать. А сейчас рынок хочет самостоятельно диктовать смыслы, и нам приходится с ним бороться. Новое поколение объявит войну корпорациям, которые пытаются все свести к цифрам, чтобы любой бескультурный «чайник» знал, кто самый лучший художник — ведь он же самый дорогой. Это, конечно, нелепая ложь, иначе Вильям Бугро (французский живописец, крупнейший представитель салонного академизма, автор картин на мифологические, аллегорические и библейские сюжеты. — TANR) был бы самым важным творцом в истории искусства. Надо понимать, что, для того чтобы по достоинству оценить искусство, необходимо обладать определенной утонченностью и многогранностью. Точно так же, как в науке, здесь нет простых ответов.
Ходят слухи, что вы выпиваете. Какой алкогольный напиток вы предпочитаете?
Я люблю виски. Но у меня на то есть достойная причина: я диабетик. Мой эндокринолог, один из лучших в Америке, на мой вопрос, как быть с алкоголем, ответил: «А что ты пьешь?» Я ему и говорю: «Ну, виски пью». А он мне: «Знаешь, тебе этого никто больше из врачей не скажет, но вообще виски понижает уровень глюкозы в крови».
Каждый день можете пить?
Я могу пить столько, сколько захочу. Еще водку ледяную люблю. Но ее как-то грустно без икры.
Черную предпочитаете?
Да.
Или красную?
Конечно, черную! Она мне больше по вкусу. Я и красную люблю, но черная — настоящая!