Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

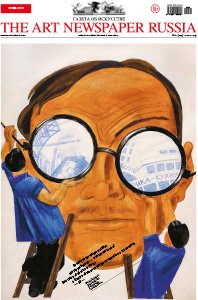
Фрида Кало в виде раненого оленя или с разрушенной колонной вместо позвоночника, Тамара Лемпицка за рулем зеленого Bugatti, Зинаида Серебрякова, расчесывающая свои длинные волосы перед зеркалом, — когда речь заходит о женских автопортретах, в памяти всплывает целая вереница знаменитых живописных образов. Между тем в современном искусстве автопортрет может не только не иметь сходства с прототипом, но даже вовсе не напоминать автопортрет. Через деконструкцию собственного облика, превращение себя в нечто неузнаваемое и просто «другое» женщина может прорабатывать личную травму или создавать альтернативу обращенному на нее мужскому взгляду — мотивы различны. Именно на таких завуалированных, трудно считываемых и прежде всего неживописных образах — и на том, что за ними стоит, — хочется сконцентрироваться сегодня, когда вопросы женской идентичности и телесности оказываются под прицелом реакционных сил. А своеобразным камертоном для нашей подборки служат слова, которыми завершается одно из стихотворений Генриха Сапгира: «На площади поставлен бюст — автопортрет, автофургон, телефон-автомат».
Центральный образ в мрачном искусстве Луиз Буржуа (1911–2010) — громадная паучиха, символизирующая материнскую фигуру, одновременно властвующую и защищающую (мать скульптора была ткачихой, восстанавливала гобелены). Скульптурный автопортрет самой Буржуа из покрытой гипсом проволочной сетки (1963–1964) напоминает, скорее, сброшенный пауком или жуком и приколотый к стене экзоскелет со сложенными лапками. Эта амбивалентная форма, изображающая то ли само существо, то ли его оболочку, нечто устрашающее и вместе с тем уязвимое, обнажает клубок телесных и эмоциональных переживаний, которые беспокоят ее автора.

В то время как Буржуа видит себя чем-то вроде экспоната энтомологической коллекции, автопортрет Алины Шапочников (1926–1973) сближен по форме с гербарием (и входит в серию с соответствующим названием). Расплющенный слепок ее тела напоминает цветок, который лежал под прессом тяжелой книги. Судьба художницы трагична. Вторая мировая война застала ее, польку еврейского происхождения, 13-летней, и несколько следующих лет она провела в гетто и нацистских концлагерях. Позднее пережила туберкулез брюшины, а умерла в 46 лет от рака груди. Тягостный опыт определил главную тему ее скульптур: человеческое тело — хрупкое, измученное, бренное. Узнав о раке, Шапочников сделала — еще до «Гербария» — серию «Персонифицированных опухолей», на поверхностях которых проступает ее лицо.

Земля, вода, огонь, цветы, перья и кровь, много крови — вот ключевые элементы в искусстве американской художницы кубинского происхождения Аны Мендьеты (1948–1985). Но главным элементом было, конечно, ее тело, которое она использовала по-разному. Например, впечатывала в землю или в песок на побережье. Эти «контррельефы» наполнялись водой и отражали небо. «Силуэты» Мендьеты с руками, то воздетыми, как у богини, то опущенными вдоль тела, как у мумии, по-настоящему автопортретны и автобиографичны, ведь через них художница переживала травму разрыва с родиной (подростком ей пришлось эмигрировать с Кубы в США, поскольку ее отец присоединился к антикастровскому подполью). Эссенциалистскую связь между женским началом и природой, матерью-землей, она противопоставляла «мужественности» колониализма, борьбе мужчин за территории.

Художница Ульяна Подкорытова (р. 1984), обращаясь к фольклорным сказаниям, творит собственные мифы, порой примеряя на себя хтонические и магические личины. В фильме «Тамотка» (2021) она — богатырша, которая стоит на берегу отравленного моря в непрочной природной броне из лемеха и осознает, что обречена на поражение в борьбе с цивилизацией и глобализацией. А на недавней выставке «Здесь дороги просто нет!» (2023) в галерее XL художница выступила от лица самой матери-природы. Гигантская голова с многометровыми косами недовольно сверлила взглядом посетителей, будто бы осмелившихся въехать на лесную полянку на зеленом «Москвиче». Скрыться от этого взгляда было негде — как негде скрыться от последствий того урона, какой человечество нанесло природе.

Знаменитый клип рок-группы Lit, в котором музыканты карабкаются по изгибам тела исполинской Памелы Андерсон, как если бы это была холмистая долина, вполне отражает ту женскую роль, которая долгое время превалировала и в искусстве, — роль музы и натурщицы, прекрасной и соблазнительной. Когда в конце 1960-х — 1970-х годах начало набирать обороты феминистское искусство, на стереотипное, сексистское изображение женщины был наложен своего рода мораторий. Художницы стремились деформировать, деконструировать и в конечном счете деэротизировать женское тело, что нашло отражение и в жанре автопортрета. Выразительный пример — раскрашенная вручную фотогравюра Кики Смит (р. 1954) «Мое голубое озеро» (1995).

Озером, обрамленным сушей-прической, стала сама художница. Она сфотографировалась, используя крутящийся стол и камеру для геологических исследований. В результате получилась плоская развертка ее лица, плеч, волос — с неизбежными искажениями, характерными для картографических проекций. География лица Кики Смит деформирована так же, как и очертания континентов на карте мира, которые ближе к ее краям кажутся значительно больше, чем должны быть.
Чашка, блюдце и ложечка, обшитые мехом антилопы, составляют, без сомнения, самый известный сюрреалистический объект за авторством женщины. Его создательница Мерет Оппенгейм (1913–1985), впрочем, не хотела, чтобы ее искусство рассматривали в границах сюрреализма или, позднее, женского движения. «Разум андрогинен», — настаивала она. Визуальным выражением этой мысли предстает ее автопортрет 1964 года, созданный на основе рентгеновского снимка. Если бы не крупные серьги, цепочка и кольца, у зрителя совсем не осталось бы зацепок относительно того, чью проекцию он видит.

Рентгеновские и УЗИ-снимки, а также макроизображения ладони и кровеносных сосудов мимикрируют под мраморные и гранитные поверхности в автобиографической работе Анастасии Литвиновой (р. 1988), посвященной переездам художницы из города в город. «Гамбит» (2019) представляет собой гигантскую шахматную доску, сложенную из фрагментов демонтированной облицовки жилых и промышленных зданий, подъездов, автобусных остановок. Вкрапление в произведение элементов собственного тела художницы превращает его в экзистенциальный автопортрет, созвучный строке из трехстишия шведского поэта Тумаса Транстрёмера: «Я — шахматный этюд».

Алиса Горшенина (р. 1994) тоже обнажает перед зрителем свое нутро со всеми чувствами и тревогами. Ее выставленное напоказ сердце сшито из тонкого капрона, на котором легко остаются раны-зацепки, а в стороны от него расходятся набухшие, набитые синтепоном артерии. Все, что создает художница, — от масок до образа женщины-древа — имеет черты автопортрета, и потому свой метод она называет «самоискусствлением».

Для фотографии или выхода в свет можно прихорошиться, натянуть светскую маску. Так что честнее всего о человеке расскажет то, что не предназначено для посторонних глаз. Пример тому — неубранная кровать главной «плохой девчонки» совриска Трейси Эмин (р. 1963) с разбросанными рядом смятыми салфетками, пустыми бутылками из-под водки и окурками; кровать, из которой она не выбиралась несколько дней, переживая депрессию и запой, а затем выставила как арт-объект в Галерее Тейт. Спустя годы после того, как «Кровать» (1998) была впервые показана публике, Эмин сказала: «В 1990-х это все сводилось к шоковому фактору, но теперь я надеюсь, что люди воспримут ее как портрет молодой женщины». Более поздняя ее работа — «Ванна», продемонстрированная на выставке «Когда я думаю о сексе…» в лондонской галерее White Cube в 2005 году, сразу была заявлена как автопортрет. Этот объект не настолько прямолинеен: ванна наполнена бамбуковыми опорами для сада, мотком колючей проволоки и куском неоновой трубки, что, впрочем, наводит на размышления насчет самоощущения Эмин и ее сексуального, вероятно аутоэротического, опыта.

Опосредованные через предметы образы себя встречаются и у других художниц. Среди них — Луиза Невельсон (1899–1988), пионерка искусства ассамбляжа, чье имя носит одна из площадей в Нью-Йорке. Выкрашенная в черный цвет конструкция из 24 ящиков, заполненных найденными на улице предметами из дерева и сложенных в виде стеллажа, — это и есть «Автопортрет: тихая музыка IV» (1964). А Юки Кацура (1913–1991), на протяжении всей жизни шедшая в авангарде японского искусства, представила себя в виде абстрактного чучела, обитого красным шелком — тканью, традиционно используемой для внутренней части женских кимоно.
В своих «классических» фотопортретах 1970–1980-х годов звезда этого жанра Синди Шерман (р. 1954) перевоплощалась в стереотипных нуаровых киногероинь: домохозяек, библиотекарш, роковых соблазнительниц. Это даже нельзя назвать примеркой чужих идентичностей — настолько выхолощены прототипы. Новая серия 70-летней Шерман состоит из цифровых коллажей, в которых ее лицо пересобрано в неузнаваемые гримасы, навевающие ассоциации с чудовищем Франкенштейна и кубистическими портретами Пабло Пикассо. «Во время фотосъемки я пытаюсь дойти до той точки, где практически не узнаю себя», — говорит она. И действительно, автопортреты Шерман — это, скорее, антиавтопортреты, полное камуфлирование своего «я».

Обратный пример — пример узнавания себя в другом — серия Мики Плутицкой (р. 1983) «Девочка, с которой ничего не случится» (2020–2021). Художница рисовала вовсе не себя, а Алису Селезневу — героиню фильма «Гостья из будущего» (1984). «Когда у меня было уже около 40 рисунков, я случайно нашла фото на свой первый загранпаспорт, выданный в 1996 году для поездки в Швецию, — пишет она. — На фото мне столько же лет, сколько Алисе в фильме, и я с такой же, как у нее, прической. После этой находки серия стала неожиданно более личной, чем я изначально предполагала, — парадоксальным групповым автопортретом».
Границы между «я» и «не-я» подчеркнуто размыты в интернет-вселенной, где каждый может скрыться за сколь угодно абстрактным аватаром. Олеся Лавриненко (р. 1991) перенесла свой образ в цифру, создав автопортрет с открытым кодом. В ходе «алгоритмических перформансов» она, сидя перед веб-камерой, в режиме реального времени вводила команды, искажающие изображение и делающие ее онлайн-образ еще более неуловимым.

Скульптор Марисоль (1930–2016) показала, что автопортрет может демонстрировать не только взгляд художника на себя, но и его взгляд вовне. Вращаясь в поп-артистском кругу (Марисоль дружила с Энди Уорхолом) и питая интерес к искусству Возрождения, она изваяла себя в 1982–1984 годах смотрящей на одну из самых растиражированных ренессансных работ — «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Знаменитая роспись спустилась со стены и стала трехмерной: высеченный из камня Христос восседает за столом в окружении апостолов, собранных из фрагментов раскрашенного дерева и фанеры.

Художница с ее венесуэльскими корнями уподобила себя деревянному истукану доколумбовых времен — она стоит чуть поодаль, рассматривая «Тайную вечерю». А может, перед ней воскресло не просто произведение искусства, пусть и великое из великих, а сама новозаветная сцена? Как бы то ни было, для зрителя все элементы скульптурного ансамбля оказываются уравнены в едином постмодернистском измерении.






